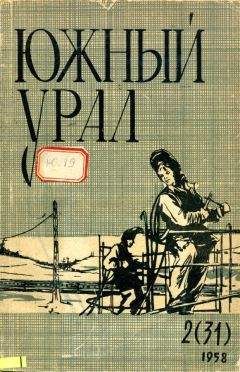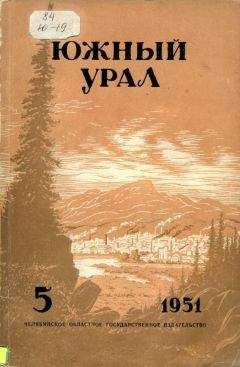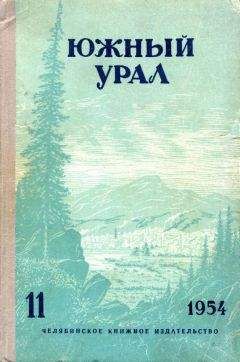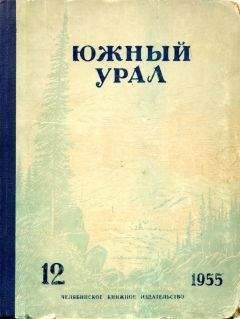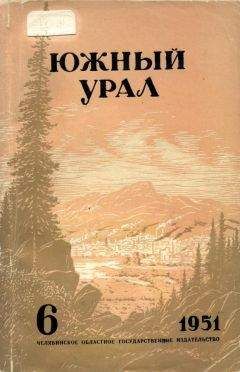Виктор Вохминцев - Южный Урал, № 27
Неотвязная мысль мучила его. Торжественное собрание назначено на пять часов. Геннадий посмотрел на часы: была половина пятого. Еще можно поспеть. Но его никто не приглашал туда. И все-таки он хочет быть там, хотя бы взглянуть на то, как собираются…
Кивком простившись с остальными, он на ходу вскочил в проходивший трамвай. Ему казалось, что трамвай еле движется, подолгу стоит на остановках. Пробравшись к двери, Геннадий рванул ее в сторону, едва вагон замедлил ход перед театром, и первым выскочил на мостовую.
У театра было оживленно, как в дни премьер, собиравших самое большое количество публики. Вся панель запружена народом. Непрерывный поток молодежи вливался в темный четырехугольник дверей. Направляясь к подъезду, шли юноши, девушки, комсомольцы и не комсомольцы. У некоторых был совсем дорожный вид, в комбинезонах, выглядывавших из-под пальто, в грубой прочной обуви, другие — одеты, как в праздник. Стоя у края тротуара, Геннадий провожал их жадным взором, мучительно завидуя, что не может быть вместе с ними. Все были веселы, шутили, смеялись, и только он привлекал к себе внимание своим угрюмым видом, выпачканным в масле лицом.
Мелькнуло несколько знакомых лиц — ребята с их завода. Геннадий отошел подальше от входа, чтобы не попасться на глаза.
Еще издали он заметил долговязую, в черном длиннополом пальто, фигуру Пастухова и тоненькую, в модной меховой шубке и шапочке из серого каракуля Вали Подкорытовой, шедших рядом, о чем-то оживленно беседуя, и поспешно зашел за угол. Они не видели его.
Подъезжали «Победы», «Москвичи» и, высадив пассажиров, становились в ряд с другими, сбоку от подъезда, на площадке для автомашин.
Бесшумно подкатил длинный лоснящийся «ЗИМ», в черный лак которого можно было смотреться, как в зеркало. Из него легко, как молодой, выскочил Малахов, за ним неторопливо, солидно вылез директор завода. Геннадию опять пришлось укрыться за углом. Какое противное состояние — прятаться вот так от знакомых людей!..
Постепенно людской поток начал иссякать. Вот уже бегут только одиночки. И вдруг, откуда ни возьмись, — Федя Лапшин, Лопушок. Опаздывая, он мчался, как шальной, не разбирая дороги, и почти налетел на Геннадия.
— Геня! Друг! Привет! — завопил он, просияв, и, остановившись перед Геннадием, заперескакивал, как всегда, с ноги на ногу, точно в ботинках у него были раскаленные угли или гвозди. Минуты не мог простоять спокойно на месте. — Ты что тут стоишь? Пошли! — трещал Лопушок, но вспомнив все, прикусил язык и смутился, не зная, что сказать дальше, как оставить товарища здесь, на панели, одного. От усиленной работы мысли рябое круглое лицо Лопушка приобрело страдальческое выражение (да он и в самом деле страдал сейчас, терзаясь за Геннадия), оттопыренные красные уши, казалось, оттопырились еще больше.
— Ты иди, опоздаешь, — тихо сказал Геннадий, отворачиваясь. Федя обрадованно тряхнул ему руку, словно прощаясь навек, и исчез в подъезде.
Геннадий постоял еще немного и медленно побрел прочь от театра. Что еще ему оставалось делать? На сердце был камень. Сейчас он не вспоминал уже ни Марианну, ни московских комсомольцев, знакомство с которыми имело для него такие роковые последствия, ни другие события последних дней. Просто ему было очень грустно.
Внезапно кто-то окликнул его сзади. Геннадий оглянулся. К нему спешил запыхавшийся, раскрасневшийся Федя Лопушок.
— Геня! Геня! Обожди! — кричал он и махал рукой, призывая остановиться.
Геннадий молча дождался его, молча стоял, пока Лопушок переводил дух.
— По… шли! — наконец, выдохнул Лопушок, делая движение всем корпусом в сторону театра. Геннадий отрицательно качнул головой.
— У меня же нет билета…
— Там Валя! Пошли! Она все устроит! — торопливо объяснял Лопушок, весь сияя от непонятной радости. Ухватив Геннадия за руку, он потащил товарища за собой.
Валя Подкорытова стояла в дверях под балконом с бронзовыми светильниками. Она была уже без шубки, в красивом платье темно-вишневого цвета, в лакированных туфельках. И она улыбалась Геннадию так же, как Федя Лопушок, улыбалась и звала:
— Скорей! Скорей! Уже начинается!
Они прошли в вестибюль. Валя показала контролерше пригласительный билет — Геннадий очутился в фойе.
— Раздевайся! Быстро! — командовала Валя, подталкивая его к вешалке.
Счастье, что там уже не было никого. Он быстро скинул ватную куртку, в которой обычно ходил на работу, сунул в руку гардеробщице кепку и побежал за Валей и Лопушком, все еще не веря, что он вместе с ними, в театре, на торжественном вечере.
В зале уже был потушен свет. Наступая в темноте на чьи-то ноги, они пробрались по рядам. Валя и здесь играла роль провожатой.
Только сели — и неслышно поплыл, разделяясь на две половинки, тяжелый бархатный занавес. На сцене, под громадным барельефным изображением Ленина, за длинным столом сидел президиум. Геннадий узнал Малахова, сидевшего в центре, рядом с секретарем горкома партии; по другую сторону от него были Пастухов и работница-комсомолка их завода, одной из первых попросившая направить ее на целинные земли. Стол был накрыт красным бархатом, рампа украшена живыми цветами в горшочках, выстроившихся шеренгой.
Геннадий плохо помнил речи ораторов. Все в нем пело, ликовало. Он совсем забыл, что сам не едет; казалось, и он тоже прощается с городом, тоже приносит торжественную клятву в том, что и там, вдали от родных мест, не уронит трудовую славу уральцев, с честью послужит Родине. К тому сводился смысл всех выступлений участников собрания.
Затем на трибуну поднялся секретарь горкома партии. От имени городской партийной организации он пожелал отъезжающим счастливого пути и плодотворной трудовой деятельности по прибытии на место. И едва он кончил, оркестр заиграл Гимн Советского Союза. Все, находившиеся в зале и на сцене, разом поднялись, и вдруг громадное четырехъярусное помещение, украшенное художественной лепкой, все в золоте и бархате, с гербом Шестнадцати Республик над сценой, наполнилось молодыми чистыми голосами, певшими Гимн. И под эти мощные торжественные звуки душа Геннадия полетела навстречу тем делам, которые ждут его впереди, тем подвигам в мирном созидательном труде, которые он совершит во славу отчизны и родного народа, — совершит обязательно. Примиренный с самим собой, со всем тем, что случилось с ним, он был счастлив сейчас, всеми помыслами и чувствами слившись с окружающими, захваченный общим подъемом.
Но в антракте, в ожидании концерта, которым должен был закончиться этот незабываемый вечер, прежнее беспокойное состояние вернулось к нему. Он стоял в коридоре, по которому прохаживались, взявшись за руки, гуляющие, и, притиснутый к стенке, стеснялся своих перепачканных рук и грязного лица, хотя и то и другое уже неоднократно украдкой вытирал старательно платком. Валя и Лопушок куда-то исчезли, и он остался в одиночестве среди этой гудящей, будто шмелиный рой, многоликой и многоголосой молодежной толпы.
Внезапно он увидел Малахова, чуть не на голову возвышавшегося над остальными, и хотел незаметно удалиться, робея в таком виде здесь, в театре, встретиться с парторгом, но тот направился прямо к нему. За ним, лавируя среди массы людей, пробирались Пастухов и Валя, позади виднелись Федя Лопушок, другие ребята из их цеха.
— Здравствуй, Геннадий! — сказал Малахов, широко улыбаясь и еще издали протягивая ему свою большую крепкую руку. — Ну! Поздравляю! Едешь?
— Куда еду, Герасим Петрович? — растерянно спросил Геннадий.
— А куда хотел?
Геннадий, растерявшись окончательно (ему казалось, что все, кто есть сейчас тут, в коридоре, смотрят на него), вопросительно шарил глазами по лицам товарищей, которые, окружив его, радостно кивали в подтверждение слов парторга.
— Едешь! Едешь!
— На целинные земли?!
— А куда же еще! — засмеялся Малахов. — Или опять надумал куда-нибудь в индивидуальном порядке?
— Больше этого никогда не будет, Герасим Петрович, — серьезно сказал Геннадий, а сам никак не мог взять в толк, что произошло, почему такая крутая перемена в его судьбе.
— Коллектив ручается за него! — звонко отчеканила Валя Подкорытова. И к нему, к Геннадию: — Мы уверены, что ты больше никогда не подведешь нас!
Геннадий смотрел на нее широко раскрытыми глазами. Так вот оно что. Коллектив поручился за него. Коллектив! Слово-то какое хорошее!..
Как сразу стало радостно, отвалился камень с души. Товарищи тормошили его. Милые, хорошие! Геннадий готов был перецеловать каждого. И Малахов — тоже какой хороший! Снова на его строгом лице со шрамом было выражение, запомнившееся Геннадию, когда Герасим Петрович вручал ему приз. А ведь сегодня — тоже приз, приз за хорошую работу, за инициативу, за то, что не пожалел усилий в труде!